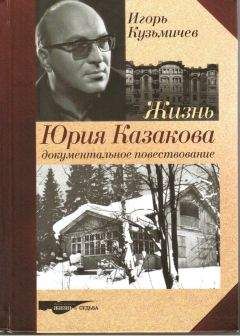2.III.1953 г.
Чуть-чуть было мне не повезло в жизни. Но все дело сорвалось. Рука судьбы беспощадно карает меня. В конце февраля я окончил рассказ о боксерах в Зап. Германии. Понес в газету «Сов. спорт». Там прочли, одобрили и... предложили переделать. Кроме этого, мне предложили, даже без всякого намека с моей стороны, стать их постоянным, штатным сотрудником, т. е. корреспондентом. Я не знаю, как мне удалось удержать в себе весь восторг, который охватил меня. Еще бы! Четыре месяца без работы, а тут вдруг как с неба счастье. Я уже было подумал, что наконец-то бог и судьба сжалились над бедным человеком. Ан нет! Не тут-то было! И тут жизнь подставила мне подножку. Я заполнил анкету, написал автобиографию, повели меня к зам. ред. Тот встретил меня с шикарной улыбкой. Но заметив, что я заикаюсь, как-то увял, поблек... Когда я осторожно намекнул ему о работе, он весьма вежливо сказал: перерабатывайте пока рассказ, а потом договоримся.
Рассказ я переработал, принес ему, он его взял, но о работе уже ни слова. Так и пропала моя корр. работа ни за понюшку табаку. А я-то уж было размечтался...
За это время я написал след. вещи: пьесу о подхалиме «Култышкин», рассказ о любви («Персидская песнь»), рассказ о боксерах («Триста долларов»), рассказ о слепом музыканте («Подвиг»). Рассказ «Обиженный полисмен» напечатали в «Московском комсом.» 17 января. Я его немножко отшлифовал и отнес в издательство «Молодая гвардия» (Альманах молодых). За это время я претерпел столько неудач, столько мытарств, столько отказов, что могу с уверенностью сказать, что и на все эти вещи получу отрицательный ответ.
6 марта 1953 г. Ночь.
Не спится. Сижу и размышляю над своей судьбой и вообще обо всем. Последние дни мне упорно «везло». Рассказ мой о боксерах соглашались взять сразу две редакции — «Московский комс.» и «Сов. спорт». Кроме того, был согласован вопрос о принятии меня на работу разъездным спец. корреспондентом в газету «Сов. спорт». Я написал автобиографию, заполнил анкету, с великим трудом достал справку из домоуправления, с работы... и все эти документы сдал 5 марта секретарю редакции. Редактора не было. Он должен был быть вечером и провести меня приказом. 6 марта, т. е. сегодня, я должен был уже явиться в редакцию за назначением. Но сегодня утром над страной разнеслась тяжелая весть — умер Сталин... И я не поехал в редакцию: до меня ли там сейчас! На душе тяжело. Сегодня весь день по радио передавали трагические мелодии, и Левитан читал правительственное сообщение о смерти вождя. В Москве объявлен траур на три дня. Траурные флаги, афиши заклеены белой бумагой, кино не работает. Завтра я все же пойду в редакцию. Быть может, меня уже провели приказом. Если же нет, то тогда, значит, вообще не примут на работу. Сегодня стали известны результаты совместного заседания ЦК, Совета Министров и Президиума Верховного Совета. В правительстве большие изменения. Вполне вероятно, что изменения эти коснутся и Комитета по делам физкультуры и спорта, а следовательно, и газеты. Будет другой редактор, другая будет и обстановка.
В общем, завтра в моей личной судьбе все выяснится. Я почему-то уверен, что мне не повезет и на этот раз. Так уж паршиво складывается жизнь моя. Что делать?
Из дневника 1959—1966 гг.[ 4 ]
20—22 августа 1959 г.
В окно машины летит сенной дух, смешанный с пылью.
Под дождем старая, заросшая подорожником дорога загорелась красно-коричнево (цветы подорожника).
Сухой лен, ставший уже рыжим, с шоколадным отливом наверху, звенит под ветром, сухой звенящий шелест (или шелестящий звон).
Обратно (были в дер. Пустынь) шли вечером. На полях туман. Множество запахов, в осиновом и березовом лесу на дороге пахло то баней, то марганцовкой, а когда шли мимо льна — мокрым бельем.
Все время стоит <...> жаркая погода — хлеб, лен, клевер, горох — все горит. Во всем чуется неподвижная истома засухи. На дорогах пыль в два-три пальца. Но уже конец августа, и в солнце нет пыла и жара — только видимость силы. И есть во всей природе что-то лихорадочное, что-то больное и тайное, торопливое, как в бабьем лете, хоть и далеко еще до него.
А ночи холодные, туманные, росистые, луна всходит над лесом и туманом полная, красная, будто крови напившись. Сумерки торопятся, уже в 8.30 наступают. Вот и еще одно лето отошло, отмерло и отпало с души навсегда.
Сейчас думал опять о Л[енингра]де 57 года, и опять ударило по сердцу. Господи, господи, за что такая мука мне. Другие если и счастливы, так хорошо, а я на всю жизнь болен. А главное в том, что не могу стряхнуть с себя это, и хоть рассказ написать впору тому счастью, чтоб уж и крест поставить. А все, как моль, кружусь вокруг огня.
24 августа 59 г.
Сегодня несколько часов провел в дер. Новоселье. Бесконечно милая деревенька в 7 дворов, затерянная, заглушенная перелесками. Обратной дорогой хорошо думалось о ней, о том, что вот если бы жил кто-нибудь в этой деревне близкий, помнил бы, думал, а ты знал бы это и возвращался иногда сюда из гула городов.
Думал также и о большом рассказе. Надо, чтоб герой не был бы старым — лет 42—43, и не он болел бы всю жизнь, а жена, и из-за нее не мог он жить, как должен был. Жить — значит вспоминать, жизнь — воспоминание. У нас впереди пустота, мы будто спиной туда идем, оборотив лицо назад, и все видим, вспоминая себя в прошлом.
Денек сегодня замглился во второй половине, посоловел, но теперь на закате опять солнце. Красное. Душно было весь день с утра, но и ветер налетал порывами, и ветер уже не летний, прохладный. Льняное поле, что давеча звенело, — вытеребили, стоит снопиками.
Не давать сердцу своему раскрываться, не позволять радоваться, говорить: «Не сметь! Не сметь!» — тогда хорошо, легче переносить страдания. А поверишь — и погиб, пропал.
9 мая 60 г. Голицыно
С востока почти черной стеной вставала грозовая туча, а с запада солнце лило свой последний свет, и все освещенное им (деревья, дома) казалось по сравнению с тучей особенно, зловеще красным.
В апрельском, еще сквозном, лесу все было так напряжено, так переполнено, что пень от спиленной зимой березы был покрыт розовой шапкой пены, а рядом корень этого пня пустил по земле целый ручей сока, и к этому ручью со всех сторон слетались пчелы, шмели, первые бабочки и ползли муравьи.
6 июня 60 г. Голицыно
После грозы. Все пыльное, струящееся, и в то же время застывшее. Налетают короткие пыльные вихри. Небо обкладывается. Гроза с молниями и водяной пылью над крышами, над дорогами. А потом желто, робко выглядывает солнце предвечернее сквозь тучу, и все темно-зелено, все блещет, всюду каплет, и уже орут радостные по дворам петухи, и кошка вышла под небо, осторожно обходит лужи. Да, еще пустынно, все живое, попрятавшееся от грозы, еще не опомнилось, еще затаено, но петухи орут, и кошка вышла, и мокрая собака уж катается по мокрой траве — высшее наслаждение.
13 мая 61 г. Коктебель
До поездки на Север нужно написать:
1. Ночной разговор, 2. Вон бежит собака, 3. В ту далекую ночь, 4. Один час на Контемпоранул.
14 мая 61 г.
Сегодня вечером под грозу за 3 часа написал «Вон бежит собака!».
24 апреля 62 г. Таруса
На тяге. Из оврага тянет снежным холодом — такой чистый родниковый воздух. По дну оврага бежит ручей, он залил кусты, и голые лозины дрожат, сгибаются и медленно выпрямляются в борьбе с течением. Где-то ниже ручей журчит на камнях, и такой звук, будто бьют сырое полено о полено, то будто кто-то вытащил с чмоканьем ногу из болота.
В полете вальдшнепа есть что-то неземное, как у пришельца из мира птеродактилей, кажется, у него перепончатые крылья, и летит он волнами, и хоркает ни на что не похоже, ни на какой земной звук. И вот уже горит Венера, чистой блестящей каплей сверкает между черных ветвей, между бархатно-черными стволами дубов. А на востоке уже висит белая яркая и маленькая луна.
Подбитый вальдшнеп шуршит листвой под кустом, упруго подскакивает на одном месте, подпираясь крыльями, глаз у него огромный, и вся грудь, клюв, изгиб шеи устремлены ввысь, в тоске смертной. И еще что-то везде раздавалось, то заунывно и постоянно: y-y! y-y! y-y... то загадочно — в разных местах — тррр, тррр... А уж весь низ неба между голыми красными лозинами, торчком густо стоявшими в человеческий рост на вырубке, шоколадно просвечивал сквозь них.
Видел только что токующего воробья. Самочка неподвижно сидела наверху, а самец, слегка развалив крылья, опустив концы их вниз, сделав спину корытцем и торчком подняв хвост, прыгал по веткам вокруг нее и чирикал изо всех сил.
10 января 63 г.
С нового года наконец сел за повесть о военной Москве. Написал всего три страницы, и все кажется не то — очень много тяжелых рассуждений о войне и некоего раската, — того самого, который так удавался Толстому. Т. е. прежде чем подойти к сюжету и взять быка за рога, долго описываешь вообще — настроение того времени и т. д.
![Юрий Казаков - Две ночи [Проза. Заметки. Наброски]](https://cdn.my-library.info/books/210606/210606.jpg)